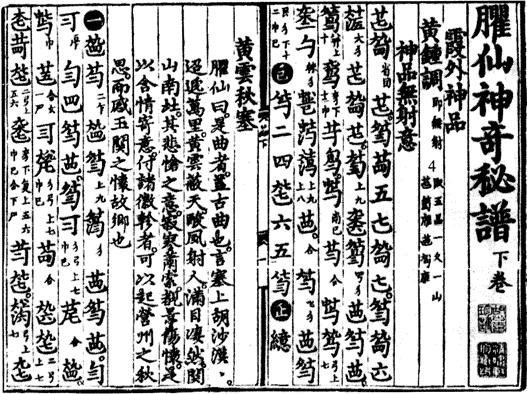祭如在,祭神如神在。
子曰:「吾不與祭,如不祭。」
Буквально:
Приношение – будто присутствуют;
приношение духам – будто духи присутствуют.
Учитель сказал:
«Я не участвую в приношении – будто не приношение.»
Сверхсжатый текст из III главы Лунь Юй, в которой много говорится о традиционных ритуалах. На первый вгляд, ничего не понятно. На второй взгляд, речь идет об участии в обрядах. На третий взгляд, речь идет об искренности участия. А дальше уже нужны культурологические и языковые пояснения.
祭 «приношение» и 祭神 «приношение духам», в чем их отличие? В том, что знак 祭 «приношение», использованный сам по себе, говорит только о культе предков; т.е. это семейный, родовой обряд. А с уточнением, 祭神 «приношение духам», это культы духов и богов (общекитайских божеств из древних религий и духов местности); они включены в общественные и государственные ритуалы – столично-имперские и местно-княжеские.
Первое относится к религии сыновности, в которой нет ничего сверхъестественного, а только поминовение умерших, ритуально-молитвенное обращение к ним и символическое приношение даров (еды и ароматических палочек). При всей серьезности культа, никто, разумеется, не верил, что мертвые предки будут есть принесенную еду и вдыхать аромат коптящих палочек.
Второе относится к традиционной религии, и вера в этих богов и духов была к тому времени уже очень условна и была скорее общественным ритуалом, носила культурно-цивилизационный характер, сохранялась как культурный код империи Чжоу и удельных княжеств.
Чжу Си пишет, что соответственно этим двум типам ритуалов, то, как человек совершал поминальное приношение предкам, говорило окружающим о его сыновном благочестии, а то, как он совершал религиозные обряды, говорило о его – нет, не «духовности», конечно, – но некоем благочестии в целом. Цивилизованности, если угодно.
Текст с пояснительными вставками мог бы звучать так:
«[Поминальные] приношения [предкам Конфуций совершал так,]
будто [они] присутствуют [и смотрят на него];
[Ритуальные] приношения духам [и богам совершал так,]
будто духи [и боги] присутствуют [и смотрят на него].»
Половина этих вставок уже есть в китайской фразе, просто по-русски это не получается сказать коротко («поминальные приношения предкам» – это один иероглиф 祭). Что речь идет о Конфуции, это единственное возможное объяснение; переводчики и комментаторы об этом не спорят.
Что касается последней фразы, то ее можно понять, если учесть уже сложившуюся тогда традицию участия «по доверенности»: когда вместо человека в обряде участвует его представитель, посланник. Так, например, император, который почти никуда не ездил, посылал на обряды в отдаленные храмы своих представителей. Но так делали и князья, и аристократы, и чиновники: не хотели или не могли участвовать – посылали кого-то поучаствовать «по доверенности». Конфуций, хоть и пользовался (судя по этой фразе) подобным способом «присутствовать, отсутствуя», не считал его правильным.
Комментарии Чжу Си к этой фразе заканчиваются крайне «антикитайской» (а на самом деле глубоко китайской) цитатой из Фань Ши: 誠為實,禮為虛也 «Искреность – реальна / существенна, форма же – никчемна / пуста». Конфуций тоже мог бы такое сказать; но тут надо понимать: такие фразы имеют вес и силу только в культуре, уважающей форму-ли. В дикарской культуре, презирающей ритуал (вроде нашего сегодняшнего мира), это не более чем девиз дикаря.
Вот как выглядит весь текст с добавлением поясняющих слов:
«[Поминальные] приношения [предкам Конфуций совершал так,]
будто [они] присутствуют [и смотрят на него];
[Ритуальные] приношения духам [и богам совершал так,]
будто духи [и боги] присутствуют [и смотрят на него].»
Учитель сказал:
[Если] я [сам] не участствую в приношении[, а посылаю представителя,]
[то это – то же самое,] будто никакого приношения [и не было].
А вот как без них, напомню:
Приношение – будто присутствуют;
приношение духам – будто духи присутствуют.
Учитель сказал:
«Я не участвую в приношении – будто не приношение.»
Текст, как видно, не очень сложный для понимания. Но самое интересное – то, что он вообще есть в Лунь Юй, что об этом вообще говорится. Это крайне нетипичная тема для Конфуция; о чем сказано в 7-21: Учитель не говорил о чудесах, силе, беспорядках и духах. Иероглиф 神 «дух» появляется в Лунь Юй 7 всего раз, из них один раз – в знаменитом совете, ставшем поговоркой (6-22): уважай богов и духов и держись от них подальше.
Философия Конфуция нерелигиозна и рационалистична, она «не нуждается в гипотезе Бога». Но она нуждается в культурной традиции, а культура растет из культа, и, поскольку весь культурный код империи основан на религиозных культах древности, Конфуций принимает и их; но сохраняет внутреннюю дистанцию: «уважай богов и духов, но держись от них подальше». Характерно, что в другом каноническом тексте, в «Записках о ли», где обсуждаются ритуальные и культовые подробности (и голос Конфуция звучит лишь изредка), духи и боги упоминаются постоянно, и слово 神 появляется 118 раз.
Как все это уложить в голове?
1) Возможно, тут сказываются разные периоды жизни Конфуция. В молодости, до изгнания, будучи на службе в своем княжестве Лу, он занимал должность в храме, отвечал за ритуалы и был известен как «эксперт в храмовой ритуалистике». С годами, после изгнания и возвращения, эта тема стала менее актуальной, и он перестал говорить с учениками о религии.
2) Возможно, это разговор не столько о религиозной искренности и «духовности», сколько об эмоциональной отдаче, о том, что в культурной традиции нельзя участвовать иронично-отстраненно. Это то же, о чем в тексте 3-4: Поминальный обряд: тут – чем быть легким / поверхностныи, лучше быть печальным / сопричастным». Формальная отбывка таких служб претила ему, и он предпочитал пустому присутствию – полную отдачу. Ее Конфуций настойчиво требует и в мирских делах: «благоговейное почтение к работе» - частое у него выражение. Или недавнее «нанимай людей будто совершаешь большой обряд приношения». Религиозная отдача как образ жизни. Ведь текст не говорит «верить, будто предки или духи присутствуют», но «вести себя на приношении так, КАК ЕСЛИ БЫ предки или духи присутсвовали».
3) Возможно, это одно из проявлений его религии традиционализма. Можно не верить в конкретного духа горы, ручья или долины; но можно вполне религиозно верить в традицию, историю, культуру, взрастившую тебя. И китайский культ предков – хорошая основа для такой религии исторической благодарности. Он включает не только близких предков, но и далеких; а отсюда уже один шаг до поклонения «мега-предкам» – Истории и Традиции. А традиция включает и культы старинных богов. Можно не верить в бога, но можно верить в саму эту религиозную традицию, как один из источников нашего культурного бытия. (Это и дилемма носителей европейской культуры: многие уже не могут верить в Христа, но продолжают верить в христианство, вскормившее их.)
Это очень тонко понимали иезуиты; закончу фрагментом их перевода-комментария:
Как рассказывают его ученики, когда Конфуций поминал своих предков и дары, полученные от них, он совершал должные ритуалы с чувством и выражением почтения и благодарности, как если бы предки сами присутствовали прямо перед ним...
 ( читать, не отлынивать )
( читать, не отлынивать )